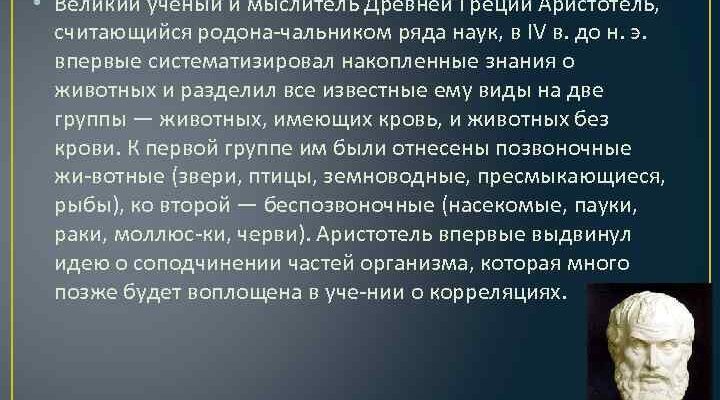Выдающийся русский антрополог Дмитрий Николаевич Анучин получил степень магистра зоологии 145 лет назад, защитив диссертацию под названием «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам». Сегодня такое присвоение учёной степени по зоологии для антрополога может показаться необычным и даже некорректным. Однако этот факт отражает непростую историю антропологии, которая как самостоятельная научная дисциплина в России оформилась значительно позже, фактически лишь в советский период.
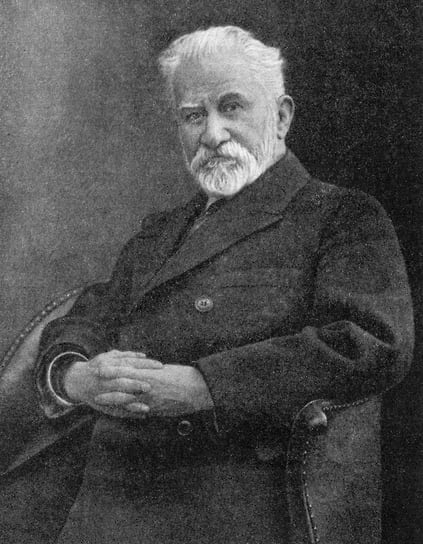
Антрополог Дмитрий Анучин
Фото: Wikimedia
Дарвиновская Концепция Антропогенеза
Ключевая работа Чарлза Дарвина «О происхождении видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых рас в борьбе за жизнь» была опубликована в 1859 году. Однако его более резонансный труд «Происхождение человека и половой отбор» вышел только через 12 лет, в 1871 году. Историки науки сходятся во мнении, что Дарвин медлил с прямым изложением идеи о происхождении человека от обезьян, опасаясь негативной реакции. Он боялся, что слишком резкие заявления отвлекут научное сообщество от его главной идеи — эволюции через естественный отбор, и что общественный гнев мог бы подорвать его карьеру и основной труд. Эти опасения были обоснованными, ведь даже без прямого утверждения о человеке, его теория уже породила социал-дарвинизм с его принципом «выживания сильнейшего».
Двенадцать лет оказалось достаточно, чтобы теория естественного отбора укрепилась в научном мире. Даже критики способствовали её широкому распространению. Таким образом, в 1871 году Дарвин без опасений издал объёмный, 400-страничный том «Происхождение человека и половой отбор», снабжённый иллюстрациями.
Интересно, что в первом издании этого труда, доступном в интернете, Дарвин ни разу прямо не заявлял: «Человек произошел от обезьяны». Такие формулировки чаще использовались его критиками или ранними переводчиками на другие языки, включая русский, которые, возможно, стремились более чётко выразить, как им казалось, главную мысль учёного.
Сам Дарвин использовал более осторожные выражения. Он начинал с сопоставления анатомии человека и обезьяны: «Все кости скелета человека могут быть сопоставлены с костями обезьяны, летучей мыши или тюленя. Тоже относится к его мускулам, нервам, кровеносным сосудам и внутренностям. Мозг, важнейший из всех органов, следует тому же закону, как показали Гексли и другие анатомы». Он цитировал анатомов, утверждавших, что «действительные различия между мозгом человека и высших обезьян очень малы» и что человек «по анатомическим признакам своего мозга гораздо ближе к человекообразным обезьянам, нежели эти обезьяны не только к другим млекопитающим, но даже к известным четырехруким». Дарвин даже добавлял юмористические наблюдения, например, о предпочтениях обезьян к чаю или алкоголю, замечая, что «одна американская обезьяна Ateles, напившись допьяна водкой, ни за что больше не дотронется до нее, доказывая, что она умнее многих людей».
Завершая свои рассуждения, Дарвин подчёркивал: «Главное заключение, здесь достигнутое и теперь усвоенное многими натуралистами… состоит в том, что человек произошел от некоторой менее высоко организованной формы. … Мы должны, однако, мне кажется, признать, что человек со всеми его благородными качествами… со всеми этими возвышенными способностями человек все еще носит в своей телесной организации неизгладимую печать низкого происхождения». Эта формулировка очень близка к современной гипотезе об общем предке человека и человекообразных обезьян.
Лишь через год, в 1872 году, в работе «О выражении эмоций у человека и животных», Дарвин дважды прямо написал: «Наши ближайшие предки — человекообразные обезьяны». А во втором издании «Происхождения человека» 1874 года он уже смелее говорил об обезьянах как о предках человека.
Взгляд Анучина на Антропогенез
В том же 1874 году в России, в первом номере «Вестника „Природа“», появилась статья Дмитрия Анучина, тогда ещё аспиранта Московского университета и преподавателя гимназии, под названием «Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества». Это был популярный научный журнал, издававшийся для широкой образованной публики, и статья Анучина затрагивала крайне злободневную тему того времени: действительно ли все люди, включая высшее общество, произошли от обезьян?
Статья Анучина носила скорее этнографический, чем строго антропологический характер. Он утверждал, что да, человек произошёл от обезьяны, но в этом нет ничего позорного. Более того, он приводил примеры из древнеиндийского эпоса «Рамаяна», где княжеские роды гордились своим происхождением от обезьяноподобного божества Ганумана, отказывая в такой чести своим подданным.
Анучин начинал своё повествование об антропогенезе с почти библейского сюжета: «В начале вещей,— так рассказывают Оранг-Бирма (одно первобытное Малайское племя)…— в горных лесах Офира жили две белые обезьяны — “ункапуте”. …Рост обезьянок стал увеличиваться, они начали заметно поправляться и хорошеть… Волосы на их теле стали выпадать, руки — понемногу укорачиваться, и в одно прекрасное утро маленькие обезьянки проснулись настоящими людьми. …Пробудились страсти, возникли споры, вражда, и облагороженные из обезьян люди, наверное, все перебили бы друг друга, если бы не явились на кораблях иноземцы и не водворили бы порядка и законности».
Далее Анучин ссылался на античных учёных (Геродот, Страбон, Плиний), которые допускали скрещивание человека с животными, и на Линнея (XVIII век), который считал, что нет чёткой грани между человеком и обезьяной, поскольку существуют промежуточные формы, такие как дикие люди, пигмеи, сатиры. Он даже упоминал старый португальский манускрипт, описывающий «племя индейцев», ходящих на четвереньках и отличающихся волосатостью, но, по мнению Анучина, это были обезьяны вида Ateles paniscus, которые, по Дарвину, были «убежденными трезвенниками».
В XIX веке, как отмечал Анучин, Жан-Батист Ламарк в своей работе «Философия зоологии» (1809) уже высказывал идею, что шимпанзе мог быть нашим прародителем, потомки которого, постепенно приспосабливаясь к ходьбе по земле и использованию задних конечностей исключительно для передвижения, развивали умственные способности, что и привело к появлению человека.
Однако авторитет Жоржа Кювье и его теория неизменяемости видов долгое время препятствовали принятию эволюционных идей. Ситуация изменилась только в 1860-х годах с появлением теории Дарвина. Анучин кратко изложил эту теорию, тем самым познакомив российскую интеллигенцию с идеями о её доисторической родословной.
Путь Антропологии как Самостоятельной Науки
В отличие от того, как легко идеи о происхождении человека принимались в древности или в некоторых научных кругах, в официальной российской науке путь антропологии был тернистым. Лишь в 1922 году вышла книга профессора Анучина «Происхождение человека», которая стала полноценным учебником по антропологии. Примечательно, что студенты получили возможность свободно изучать антропологию в университетах без препятствий со стороны властей только после 1919 года, то есть уже при советской власти.
Первая кафедра антропологии в Российской империи появилась на физико-математическом факультете Московского университета благодаря гранту железнодорожного магната Карла фон Мекка. Создавалась она специально для Анучина, который в 1875 году отправился на трёхлетнюю стажировку по антропологии в ведущие европейские города. По возвращении, в зимнем семестре 1879/80 года, он начал читать первый в России курс физической антропологии. Однако его работа на этой кафедре была недолгой: по новому университетскому уставу 1884 года антропология была исключена из университетской программы.
Анучин продолжал преподавать антропологию в Московском университете как факультатив на историко-филологическом отделении. Ещё один короткий период возрождения интереса к дисциплине пришёлся на 1907-1912 годы. Окончательно кафедра антропологии в Московском университете была восстановлена только в 1919 году, когда новые власти не имели возражений против теории происхождения человека. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Санкт-Петербургском университете, где отдельный курс антропологии читался на кафедре этнографии и географии с 1887 года, но самостоятельная кафедра появилась лишь в 1960-е годы в ЛГУ.
В Российской империи сложилась парадоксальная ситуация с антропологией. Её морфологические и этнические аспекты (расоведение) преподавались в рамках этнографии, а антропогенез — в зоологии. Попытки объединить эти направления и закрепить антропологию как независимую научную дисциплину в университетских учебных планах постоянно терпели неудачу. Казалось, существовало негласное табу на открытую подготовку специалистов по «зоологии человека».
Несмотря на это, активно развивалась общественная и музейная деятельность. В 1863 году при Московском университете было создано «Общество любителей естествознания», которое в 1867 году стало «Императорским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии» (ОЛЕАиЭ). Успешно прошла Всероссийская антропологическая выставка в Москве. В 1879 году по указу императора был создан Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. В 1883 году открылся Антропологический музей Московского университета, а в 1892 году Москва принимала Международный антропологический конгресс. С 1900 года издавался «Русский антропологический журнал». ОЛЕАиЭ проводило семинары и публиковало статьи. Однако, несмотря на всю эту активность, систематическое изучение антропологии студентами в университетах оставалось уделом факультативов и скрытых курсов в рамках других специальностей, таких как зоология, география, этнография и гуманитарные науки.
Подобные сложности сопровождали и преподавателей. Дмитрий Анучин, будучи фактически основателем российской антропологии, получил множество наград, включая ордена Святой Анны и Святого Владимира, а также французский орден Почётного легиона. Но его магистерская степень была получена по зоологии в 37 лет, хотя обычно её получали за пару лет. Доктором наук он стал по совокупности заслуг, но в области географии. Профессором и заслуженным профессором он также числился по географии. Его избирали академиком Императорской академии наук, но по зоологии.
По воспоминаниям одного из студентов Анучина, он читал антропологию «попросту, можно сказать, по-семейному» в скромной комнате университетского Этнографического музея, собирая вокруг себя двадцать-пятнадцать человек. Дмитрий Николаевич был чрезвычайно продуктивным учёным, оставившим более тысячи работ в географии, этнографии и антропологии. Несмотря на то что он был первым антропологом России, по-настоящему признанным в этой роли он, вероятно, почувствовал себя только в начале 1920-х годов. Советские историки биологии даже выделили продолжительный «анучинский период» в развитии отечественной антропологии, охватывающий почти полвека — с середины 1870-х годов до его кончины в 1923 году. Современная «Летопись Московского университета» справедливо характеризует Анучина как выдающегося географа, этнографа, археолога, антрополога и исследователя Сибири.
Следует отметить, что схожая ситуация с антропологией наблюдалась и в Европе, где, несмотря на существование множества обществ, конгрессов и журналов, первые кафедры антропологии как самостоятельной специализации появились лишь в начале XX века. К тому времени «дух обезьяны Ганумана», символизирующий спорные аспекты происхождения человека, наконец-то оставил эту науку в покое.
Ася Петухова