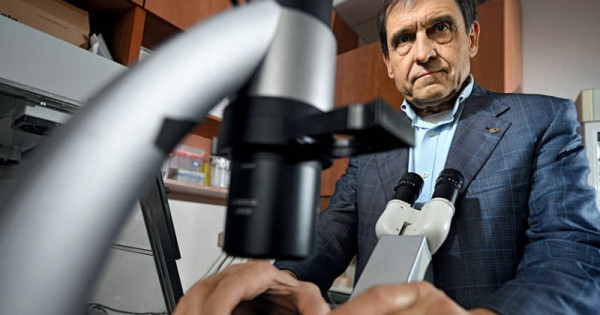Онколитические вирусы дарят надежду на излечение самых агрессивных форм онкологии
Академик Петр Чумаков, руководитель лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН, раскрывает суть онколитических вирусов: их естественную способность противостоять раку, методы использования этих свойств, а также текущие отечественные разработки и перспективы их широкого применения в медицине.
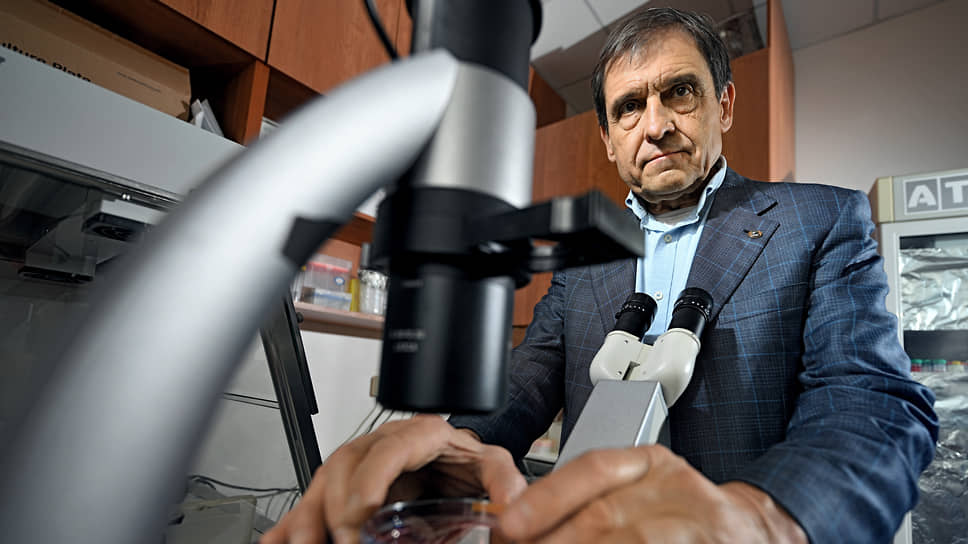
— Ваш отец, академик Михаил Чумаков, посвятил жизнь борьбе с болезнетворными микроорганизмами, разработав вакцину от полиомиелита, спасшую мир от этой угрозы. Ваша мать, Марина Ворошилова, помимо совместной работы с ним, активно занималась онколитическими вирусами — нашими союзниками в борьбе с раком. Можно ли сказать, что именно от неё вы унаследовали интерес к этому направлению?
— Я бы не назвал это страстью, но определённо унаследовал от неё. Хотя я начинал в этой сфере ещё студентом, затем занимался совсем другими вещами. К теме онколитических вирусов я вернулся пятнадцать лет назад, когда почувствовал, что она, будучи не готовой к серьёзным исследованиям в 1970-х годах, теперь созрела. Мы накопили гораздо больше знаний о вирусах, их свойствах и способах минимизации побочных эффектов, что позволяет подходить к этим вопросам более осознанно.
Суть подхода заключается в применении живых вирусов для борьбы с раком. Хотя идея инфицирования человека вирусом до сих пор вызывает опасения, современные исследования подтверждают существование вирусов, абсолютно безопасных для человека и обладающих полезными свойствами. Они способны эффективно стимулировать иммунную систему, позволяя ей вновь распознавать и уничтожать злокачественные клетки.
Привнесение малой частицы в огромное вирусное множество
— Как были обнаружены вирусы с такими уникальными свойствами?
— Это было случайное наблюдение, берущее начало в работах по созданию живой полиомиелитной вакцины. Детям давали «конфетку» с живым вирусом, который затем размножался в кишечнике.
— Знаю, что вы были среди тех детей, кто принимал эту «конфетку», то есть испытывали вакцину на себе.
— Да, так и было. После размножения вируса в кишечнике вырабатываются антитела, что формирует пожизненный иммунитет к полиомиелиту. Однако примерно у 20% детей антитела не образовывались. Выяснилось, что в их кишечнике одновременно присутствовали другие, очень похожие вирусы, вызывающие интерференцию. Это феномен, когда один вирус препятствует внедрению другого, так как организм вырабатывает противовирусный белок интерферон, не дающий новому вирусу закрепиться. Тогда возникла идея использовать эти кишечные вирусы для профилактики вирусных инфекций.
— То есть для создания вакцины?
— Не совсем вакцины. В случае полиомиелитной вакцинации вирус в кишечнике мешал размножению живой вакцины и формированию защиты. Но с помощью таких безопасных вирусов можно бороться и с другими вирусными инфекциями, вытесняя патогенные. Людям можно давать «конфетку» или капли с безопасным энтеровирусом, что временно делает их невосприимчивыми к вирусным заболеваниям. Такие исследования проводились на большой группе людей — около 300 тысяч человек были вакцинированы во время сезонных эпидемий гриппа на протяжении четырёх лет. Были получены впечатляющие результаты: заболеваемость снизилась в 3–3,5 раза, что даже эффективнее, чем при использовании противогриппозной вакцины.
Среди вакцинированных оказались онкологические больные, и во время испытаний было замечено улучшение их состояния. Это очень напоминало эффект вирусного онколиза, который к тому времени уже был открыт, но в основном на животных. Попытки применять его на людях тогда быстро свернули, поскольку не было знаний о непатогенных вирусах. Эти исследования долгие годы вызывали страх у учёных, так как использование болезнетворных вирусов в терапии рака часто приводило к смерти пациентов не от рака, а от вирусных заболеваний.
— В связи с чем эти исследования возобновились?
— Мы сейчас располагаем гораздо большим объёмом знаний, чем тогда. Сегодня известно множество непатогенных вирусов. В 1970-х годах, когда были выделены первые безопасные вирусы, научное сообщество не было готово принять эти аргументы. Существовало опасение, что, возможно, они непатогенны изначально, но «вы выпускаете большое количество вирусов в популяцию людей, они мутируют и станут болезнетворными». Сейчас этот аргумент кажется наивным. Мы знаем закономерности эволюции вирусов: обычно патогенность, наоборот, снижается при циркуляции. Если вирусы исходно не патогенны, вероятность того, что они станут таковыми, крайне мала. Более того, поскольку значительный процент детей в природе уже носит такие кишечные вирусы, даже несколько тысяч пациентов, получающих такой вирус, — это капля в море.
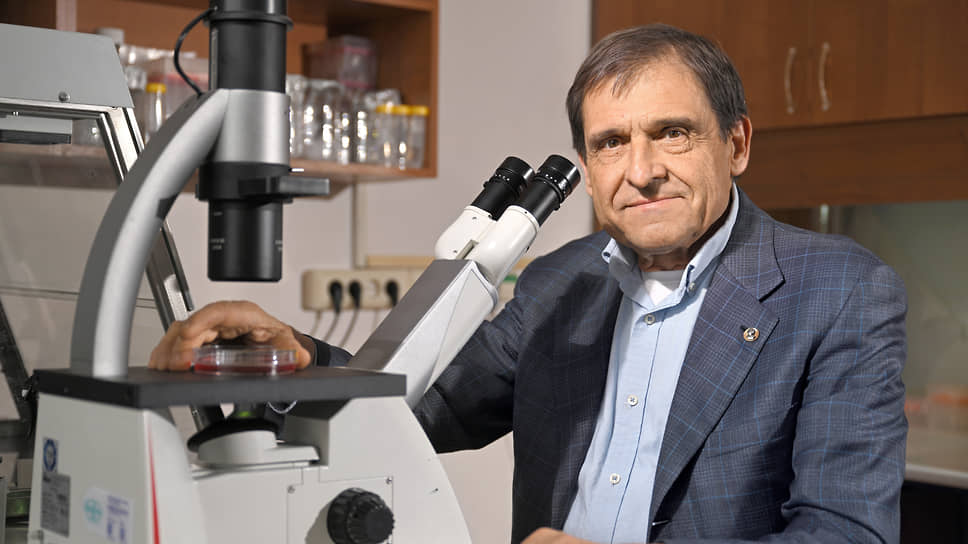
Подбор вирусов для гарантированного ответа организма
— Вы многие годы занимались лечением пациентов с запущенными стадиями рака, к вам направляли тех, кому врачи уже не могли помочь. Но теперь у вас начались клинические испытания. Это правда?
— Да. Это значимое событие. В конце прошлого года Минздрав одобрил проведение первой фазы испытаний нашего препарата, который содержит одновременно четыре штамма непатогенных энтеровирусов. Этот препарат, названный «Энтромикс», также именуют онколитической вакциной. Мы считаем это настоящим прорывом, поскольку в других странах исследователи онколитических вирусов обычно концентрируются на одном штамме. Их долго доводят до безопасного состояния, но на этапе клинических испытаний выясняется, что лишь небольшой процент пациентов реагирует на такой вирус положительно. И хотя доказано, что эти вирусы безопасны и не вызывают серьёзных побочных эффектов, присущих токсичной химиотерапии, которая инвалидизирует человека и убивает его иммунную систему, низкий процент положительного ответа при использовании одного онколитического вируса препятствовал широкому внедрению таких препаратов в клиническую практику.
— Почему процент успешных случаев был так низок?
— Сейчас мы понимаем, что в процессе опухолевой трансформации и прогрессии раковые клетки накапливают множество мутаций в генах, без которых они вполне могут существовать. Но среди этих изменённых генов могут быть и те, что необходимы вирусу для его жизненного цикла. Поскольку каждый случай рака уникален и имеет свой набор испорченных генов, у одних пациентов конкретный онколитический вирус может размножаться, а у других — нет. Мы установили, что если для больного подходит один вирус, то с большой вероятностью подойдёт и другой. А если ввести сразу три-четыре вируса, вероятность терапевтического эффекта значительно возрастает. Именно поэтому мы включили в наш препарат сразу четыре вируса.
— Почему была выбрана именно эта комбинация?
— Это также было сделано обдуманно. Мы стремились к тому, чтобы эти вирусы были иммунологически разными и проникали в клетки через различные белки-рецепторы. Это повышает вероятность того, что для работы каждого вируса потребуется свой, отличающийся набор генов. Поэтому мы отобрали четыре существенно разных вируса. И действительно показали, что применение такой смеси увеличивает вероятность положительного ответа в три-четыре раза.
— Но существует ли вариант, что не сработает ни один из них?
— Да. Может оказаться, что среди опухолей нет ни одной, чувствительной ко всем четырём вирусам. Для решения этой проблемы мы сейчас разрабатываем следующий препарат, который будет содержать четыре других вируса, чтобы охватить недостающие варианты. Мы продолжим работать в этом направлении, чтобы подобрать такие вирусы, которые обеспечат 100% ответ пациента.
— Правильно ли я понимаю, что нет такого типа рака, на который не воздействовал бы тот или иной онколитический вирус? Просто задача состоит в том, чтобы его найти?
— Механизм действия онколитических вирусов довольно сложен, поэтому однозначно ответить на этот вопрос затруднительно. Ведь недостаточно просто размножения вируса в клетке. Необходимо, чтобы он также стимулировал иммунную систему, чтобы она начала «видеть» опухолевые клетки. Основной терапевтический эффект вирусов связан с тем, что в ответ на вирусную инфекцию в опухоли начинает вырабатываться интерферон, который привлекает компоненты иммунной системы. Иммунная система начинает распознавать раковые клетки, выявлять присутствующие на них антигены и формировать противоопухолевый ответ. Однако в некоторых опухолях этого может не происходить или терапевтическое действие окажется неполноценным, поскольку в них может быть недостаточное количество мутаций, приводящих к появлению новых антигенов, которые иммунная система могла бы распознать как чужеродные. Например, саркомы, обычно имеющие небольшое число мутаций, значительно более устойчивы к онколитическим вирусам, чем распространённые виды рака, такие как рак молочной железы, лёгкого, яичника, поджелудочной железы. Конечно, ещё предстоит решить множество проблем и найти ответы на многие вопросы.
Сейчас активно ведётся поиск вирусов с наиболее мощным терапевтическим эффектом, а также дополнительных методов, способных усилить их действие.
— Вы упомянули, что клинические испытания начались с конца прошлого года. Есть ли уже предварительная информация о результатах?
— Пока идут испытания первой фазы, где проверяется не эффективность, а исключительно побочные эффекты. Вначале используются малые дозы, недостаточные для терапевтического действия. Затем дозы будут постепенно повышаться. Весь этот этап займёт около полутора-двух лет. После этого начнётся вторая фаза испытаний, направленная на оценку эффективности. Предстоит разработать протокол этих испытаний, получить одобрение Минздрава и найти источники финансирования. Сами испытания могут продлиться два-четыре года. Но даже если всё пройдёт успешно и будет получено одобрение на использование вирусного препарата в клинике, предстоит решить вопрос о его массовом производстве. Так что впереди ещё много работы, ведь это абсолютно новое направление, сильно отличающееся от всего, что делалось ранее.
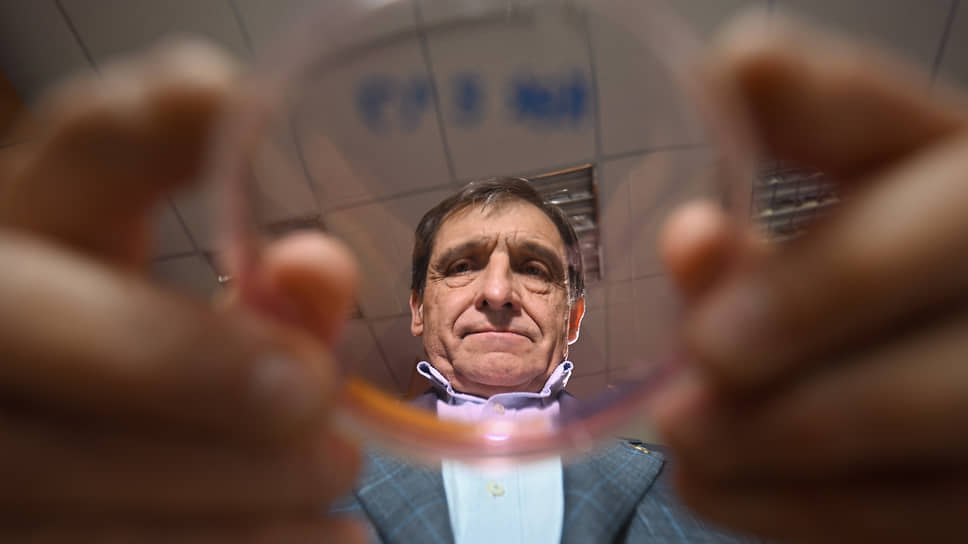
Улучшение состояния онкобольных после COVID-19
— Можно ли назвать это будущим в лечении рака?
— Мы очень на это надеемся. В настоящее время основу терапии рака составляют цитотоксические и таргетные химиопрепараты. Они нацелены в первую очередь на уничтожение раковых клеток, но при этом отравляют весь организм, вызывая серьёзные побочные эффекты. В ответ на химиотерапию опухоль может быстро уменьшиться и даже исчезнуть. Однако остаётся некоторое количество так называемых стволовых опухолевых клеток, которые обладают особой устойчивостью к терапии. Их может быть немного, они могут находиться в дремлющем состоянии несколько лет, а затем вызвать рецидив. Даже если пациент считает, что полностью излечился, через несколько лет заболевание может вернуться.
— А в случае с онколитическими вирусами ситуация иная?
— Да, это не так. Сейчас уже есть примеры, когда ранее считавшийся абсолютно смертельным рак головного мозга, глиобластому, в ряде случаев удаётся вылечить. Таких наблюдений пока, к сожалению, немного, но имеющиеся примеры свидетельствуют о возможности полного излечения. Вирусы способны уничтожать и раковые стволовые клетки. Но это не только результат прямого токсического действия вирусов на клетки. В ответ на вирусную инфекцию в опухоли выделяется множество различных цитокинов — секретируемых белков, посредством которых клетки взаимодействуют. Они способствуют как перемещению клеток в определённом направлении, так и изменению их дифференцировочного состояния. Под влиянием некоторых цитокинов раковые стволовые клетки утрачивают свой «стволовой» статус и перестают быть источником рецидивов заболевания.
— Какова вообще эволюционная цель существования безопасных вирусов? В чём смысл их присутствия?
— По этому поводу можно строить только гипотезы. Одну из них ещё в 1970-х годах выдвигала моя мама, даже зарегистрировав открытие, посвящённое «полезным» вирусам. Она считала, что наряду с полезными бактериями, широко используемыми в пищевой промышленности и играющими положительную роль, например, в нашем кишечнике, существуют и полезные вирусы-сапрофиты. Это результат совместной эволюции, когда организмы вырабатывают симбиотические отношения.
В частности, безопасные вирусы могут стимулировать иммунные процессы, тем самым защищая нас от вредоносных вирусов.
Происходит тренировка иммунитета.