Поиск новых антибиотиков в пасти у медведя и в соленых озерах Тибета
Антибиотики — препараты, спасшие миллионы жизней. Недавние исследования показывают, что их используют даже насекомые для защиты от микробов.

В то же время люди нередко боятся эти мощные средства, но при этом злоупотребляют ими, способствуя распространению бактерий, устойчивых к лекарствам. Интересно, что даже сами микроорганизмы, активно участвующие в производстве антибиотиков, имеют непростые отношения с этими веществами.
Дмитрий Лукьянов, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии «Сколтеха», рассказал изданию «Ъ-Наука» о том, почему ученые ищут бактерии в экзотических местах вроде морских глубин, нефтяных скважин, Арктики и высокогорных водоемов Тибета. Он также поделился историями о находках в пасти медведя и в носу у свиньи, объяснил разницу между советским и западным пенициллином, упомянул антибиотик, названный в честь персонажа «Космической одиссеи», рассказал об эксперименте Гарварда с гигантской чашкой Петри, когда был открыт последний новый антибиотик, и что может произойти, когда бактерия подает сигнал SOS.
— Антибиотики уничтожают бактерии, как и спирт. В чем принципиальное отличие?
— Можно сказать, что и динамит уничтожает бактерии. Ключевое отличие — в механизме действия и мишени. Спирт универсально разрушает клеточные мембраны, поэтому убивает все живое. Антибиотики же действуют очень избирательно, воздействуя почти исключительно на бактерии.
— Насколько специфично может действовать антибиотик?
— Некоторые антибиотики могут действовать, например, только против возбудителя туберкулеза. Такое возможно, если препарат способен проникать только в определенный тип бактерий или если его мишень — уникальная молекулярная особенность именно этой бактерии.
— Но широко распространено мнение, что антибиотики оставляют после себя «выжженную землю».
— Антибиотики широкого спектра действия действительно подавляют рост многих видов бактерий, включая полезные, поэтому назвать их очень точным инструментом нельзя. Например, азитромицин применяется для лечения множества заболеваний: респираторных инфекций, воспаления среднего уха, стрептококкового фарингита, хламидиоза, гонореи… Иногда его даже используют против малярии, хотя это аномалия, так как малярия вызывается не бактериями. Однако даже такие антибиотики убивают лишь определенные бактерии, а не все живое подряд, как это делают антисептики вроде перекиси водорода. И рабочая концентрация у них совершенно иная: для уничтожения бактерии потребуется гораздо меньше молекул антибиотика, чем спирта или перекиси.
— Каких возбудителей антибиотики не уничтожают?
— Вирусы, простейшие, паразитические грибы.
— Но это не останавливает людей от их применения?
— Верно. Самая распространенная ошибка — попытка лечить антибиотиками вирусные инфекции. Это наблюдалось во время пандемии COVID-19 и часто происходит при обычном гриппе или простуде, когда люди сами себе назначают антибиотики.
— Как антибиотики функционируют?
— Для понимания этого нужно знать устройство и жизнедеятельность бактериальной клетки. Это одноклеточный организм, хранящий наследственную информацию в ДНК. Бактерия производит все необходимые функциональные молекулы: информация с ДНК переписывается на РНК, которая затем служит матрицей для сборки белков на клеточной «белковой фабрике» — рибосоме. Белки выполняют большинство функций клетки, и весь этот процесс синтеза составляет основу жизни бактерии. Антибиотики прерывают ключевые этапы этого цикла. Например, при делении клетке нужна копия ДНК. В этом участвуют ферменты. Левофлоксацин мешает этим ферментам восстановить разрезанную ДНК, что приводит к гибели клетки. Другой важный процесс — синтез РНК на основе ДНК с помощью особого фермента. На него воздействует рифампицин — антибиотик широкого спектра, используемый, например, при туберкулезе. Следующий шаг — синтез белка на рибосоме. Большая часть антибиотиков нацелена именно на эту «машину». Азитромицин, например, блокирует канал, через который выходят готовые белки, останавливая работу рибосомы. Тетрациклины, наоборот, препятствуют доставке аминокислот (строительных блоков для белков) к рибосоме. А некоторые аминогликозиды провоцируют ошибки при сборке белка. Есть и другие механизмы. Некоторые антибиотики встраиваются в клеточную мембрану, образуя в ней поры. Пенициллин же блокирует синтез клеточной стенки — внешней защитной оболочки бактерии.
— Вы занимаетесь исследованием механизмов действия антибиотиков. Какова цель этих работ?
— В нашей лаборатории Ольги Донцовой в «Сколтехе» профессора Петр Сергиев и Илья Остерман разработали специальную репортерную систему. Она позволяет тестировать различные вещества на лабораторных штаммах, очень чувствительных к антибиотикам. Эта система помогает определить, какие вещества нарушают синтез ДНК, а какие — синтез белка. Основываясь на этих данных, мы можем детальнее понять, как именно антибиотик воздействует на определенный процесс, какие части его молекулы критичны для действия, а какие можно изменять для улучшения проникновения в клетку.
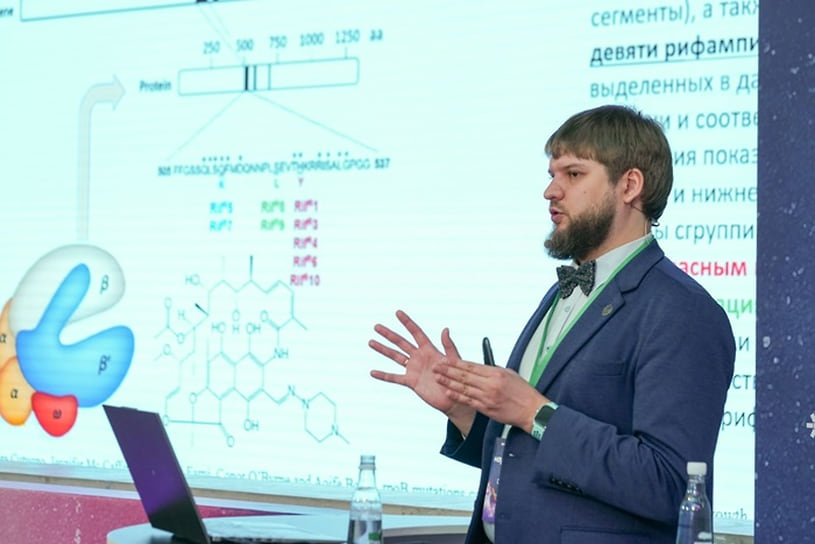
— Все знают о пенициллине. Какое открытие в области антибиотиков незаслуженно осталось в тени?
— Во-первых, стоит вспомнить, что еще до открытия антибиотиков как чистых молекул их активно использовали в виде экстрактов грибов, например, для наружного применения. Это тоже значимое открытие, сделанное задолго до выделения чистых веществ. Во-вторых, хотя пенициллин ассоциируется с именами нобелевских лауреатов Флеминга, Чейна и Флори, нельзя забывать о Зинаиде Ермольевой, которая руководила разработкой пенициллина в СССР. Из других важнейших антибиотиков отмечу стрептомицин — первый эффективный препарат против возбудителя туберкулеза. Его открыл Зельман Ваксман, который также предложил универсальный метод поиска антибиотиков.
— Золотой век антибиотиков пришелся на 1940-е—1960-е годы. А много ли новых открыто в XXI веке?
— Открытия нового класса антибиотиков ждали почти 30 лет. В марте ученые из канадского Университета Макмастера и Иллинойсского университета в Чикаго опубликовали в журнале Nature статью о лариоцидине. Ему еще предстоит пройти долгий путь до клинического применения, и его механизм действия схож с некоторыми другими веществами, но это действительно новый антибиотик. Кстати, одним из соавторов статьи является выпускник «Сколтеха» Дмитрий Травин. Что касается выхода на рынок, недавно, также в марте, американский регулятор одобрил гепотидацин для лечения инфекций мочевыводящих путей. Гепотидацин представляет собой новый класс антибиотиков, что крайне важно для борьбы с резистентными штаммами.
— Когда антибиотики начали массово применяться во время Второй мировой и в период холодной войны, вокруг них была атмосфера секретности. Как обстоят дела сейчас?
— Сейчас секретность имеет другую природу — это коммерческая тайна. Вряд ли спецслужбы хранят досье с секретными формулами антибиотиков. Но фармацевтические компании стараются не раскрывать свои разработки. Открытие и вывод на рынок нового антибиотика — процесс долгий и сложный. Поэтому компании максимально дорабатывают молекулы, модифицируя их химически, чтобы повысить эффективность и снизить токсичность еще до начала клинических испытаний. Значительная часть кандидатов отсеивается на разных стадиях, и фармкомпании обычно не сообщают даже о неудачных разработках до определенного момента. Раньше, во время Второй мировой войны, технология производства пенициллина действительно была секретной, и самого препарата не хватало. Это привело к параллельным разработкам в СССР, и отечественный пенициллин, созданный Ермольевой, немного отличался от западного, потому что ей пришлось найти другой микроорганизм-продуцент.
— Кто такие продуценты?
— Это микроорганизмы, чаще всего бактерии из группы стрептомицетов, которые производят антибиотики.
— Бактерии вырабатывают антибиотики целенаправленно?
— Это подводит нас к вопросу о происхождении антибиотиков. Большинство используемых нами препаратов изначально были обнаружены в природе, хотя сейчас их часто химически модифицируют. Бактерии и микроскопические грибы синтезируют антибиотики для конкуренции с другими микробами: в почве мало питательных веществ, и конкуренция за них высока. Чтобы вытеснить соперников и получить ресурсы, бактерия производит антибиотик.
— Поэтому антибиотики действуют так избирательно?
— Да. Продуцент должен вырабатывать вещество, которое убивает соседей, но не вредит ему самому. Существуют разные способы достижения этой цели. Например, микроскопические грибы, синтезирующие пенициллин, не имеют тех ферментов, на которые действует этот антибиотик. Некоторые бактерии могут временно менять структуру антибиотика, делая его безопасным для себя, а затем выбрасывать наружу в активной форме.
— Это похоже на гранату с выдернутой чекой! А если у бактерии-продуцента много конкурентов?
— Бывает, что один продуцент синтезирует несколько видов антибиотиков, каждый из которых нацелен на определенный тип конкурентов.
— Где ученые ищут таких продуцентов? Правда, что ваши коллеги ездили за ними в Тибет?
— Их ищут в почве и воде. Я участвовал в проекте, где наши китайские коллеги собирали образцы в соленых озерах Тибета. Конечно, можно взять образец почвы в любом дворе, но там, скорее всего, уже искали, и шанс найти что-то новое невелик. Поэтому интересны уникальные, изолированные места, мало затронутые человеком, но богатые микробами. Коллеги пробовали искать в пещерах, но там оказалось мало микроорганизмов из-за темноты, холода и недостатка питания. Но есть же бактерии, приспособленные к экстремальным условиям?
— Именно! Поэтому этот подход тоже используется.
— Да, например, коллеги совершали экспедиции на Северный полюс, собирая образцы из Северного Ледовитого океана. Микроорганизмов ищут на больших морских глубинах, в нефтяных скважинах. Получить образцы из таких мест сложно, но если появляется возможность договориться с теми, кто там работает, мы стараемся ее не упустить.
— Говорят, искали даже во рту у медведя. Что там нашли? И как туда вообще добрались?
— Это работали наши коллеги из Института биоорганической химии РАН. Во рту у медведицы нашли уже известный антибиотик амикумацин, который затем исследовали. Медведица жила в Сибири, ученые напрямую с ней не контактировали; образец слюны передали ветеринары, которые наблюдали за животным. Недавно также обнаружили антибиотики в микробиоте носовой полости свиней. Животные сосуществуют с бактериями-продуцентами, используя их для защиты от болезнетворных микробов. Моя коллега Юлия Закалюкина находила продуцентов в микробиоте муравьев и пчел — антибиотики помогают этим насекомым бороться с паразитическими бактериями. Хотя это были уже известные антибиотики, такие находки представляют большой интерес для энтомологов.
— Значит, первоисточник антибиотиков — это всегда продуцент в живой природе?
— Почти всегда. Дальше с такими продуцентами можно работать по-разному: тестировать экстракты из культуральной жидкости на чувствительных штаммах, выращивать продуцента рядом с бактериями, которые нужно уничтожить, и так далее. Существуют довольно ingenious устройства, позволяющие выращивать в естественной среде бактерии, которые не растут в лабораторных условиях — а таких, к слову, около 99%! Можно также выделять всю ДНК из образца почвы или воды, секвенировать ее, находить гены, ответственные за синтез антибиотиков (у них есть характерные маркеры), и пересаживать эти генные кластеры в более удобные для работы бактерии. Такими исследованиями занимаются у нас в «Сколтехе» в лаборатории анализа метагеномов.
— Почему «почти всегда», а не всегда?
— Существует альтернативный подход — поиск в обширных базах данных, содержащих десятки тысяч химических соединений. В одном исследовании мы проверили около ста тысяч соединений с помощью нашей репортерной системы. Эти базы называются химическими библиотеками. Туда попадают вещества, синтезированные органическими химиками из чисто научного интереса, в ходе поиска аналогов лекарств или для нужд промышленности. Мы можем анализировать эти библиотеки, выявлять соединения, способные уничтожать бактерии, и искать похожие молекулы.
— Вероятно, в этом помогает машинное обучение?
— Да, совершенно верно. В США группа исследователей под руководством Джеймса Коллинза обучила нейросеть распознавать в молекулах структурные особенности, характерные для известных антибиотиков. Этот машинный анализ химических библиотек позволил создать список потенциальных антибиотиков. Из этого списка выбрали соединения, которые уже проходили клинические испытания по другим показаниям, и протестировали их на бактериях. Оказалось, что часть из них эффективно убивает бактерии. Проанализировав другие характеристики, выбрали молекулу, которую ранее изучали как возможное лекарство от сахарного диабета. В этой роли она не сработала, но зато показала себя как антибиотик. Авторы назвали его галицином (HALicin) — в честь компьютера HAL из фильма Кубрика «Космическая одиссея».

— Для чего в Гарварде создали огромную чашку Петри?
— Этот эксперимент демонстрировал механизмы развития устойчивости. Ученые сделали прямоугольную чашку Петри размером 120 на 60 см, разделенную на параллельные полосы. На крайних полосах антибиотика не было, а по мере движения к центру его концентрация ступенчато увеличивалась: от трех минимальных ингибирующих доз (тех, что подавляют рост бактерий) до 30, 300 и, наконец, 3 тысяч доз в самом центре. Бактерии изначально заселили на полосы без антибиотика. Они быстро размножились и начали распространяться на соседние участки с небольшой концентрацией антибиотика. К концу эксперимента, длившегося 11 дней, бактерии заняли всю чашку. За это время они выработали устойчивость, превышающую исходную в 3 тысячи раз.
— Это звучит пугающе!
— В определенном смысле да, хотя стоит учитывать, что условия в эксперименте для бактерий были относительно комфортными. В клинической практике сразу назначается высокая доза антибиотика, которая поддерживается на протяжении всего курса, чтобы не дать бактериям времени адаптироваться. Вот почему критически важно следовать всем рекомендациям врача и принимать антибиотики строго по назначению и в полном объеме. Идеальный подход — это сначала провести бактериологический посев, чтобы точно определить тип возбудителя и его чувствительность к разным антибиотикам, но это занимает время, поэтому часто препараты назначают эмпирически, исходя из симптомов. Если же принимать антибиотики с нарушениями протокола, например, неполным курсом, их концентрация в организме может падать до субингибирующего уровня, что создает условия для выработки бактериями механизмов защиты.
— То есть у отдельных бактерий случайным образом возникают полезные мутации, и они начинают активно размножаться?
— Именно так. В среднем одна бактерия на десять миллионов может получить какую-либо мутацию. Под действием антибиотика происходит естественный отбор: мутации, дающие устойчивость, позволяют этим бактериям выжить и быстро увеличить свою численность в популяции. Более того, у бактерий есть неприятная защитная реакция, называемая SOS-ответом. Этот механизм активируется, например, при сильном повреждении ДНК, и он, в числе прочего, включает усиленный ремонт ДНК с использованием ферментов, склонных к ошибкам. Это резко повышает частоту мутаций. Получается, что мы пытаемся уничтожить бактерию, а она в ответ вдесятеро ускоряет свою адаптацию.
— Какие существуют способы защиты у бактерий?
— Их довольно много. Например, они могут препятствовать проникновению антибиотика внутрь клетки или быстро выкачивать его наружу. Могут изменять структуру мишени антибиотика, например, рибосомы. Еще бактерия может химически обезвредить молекулу антибиотика. Этот путь встречается реже среди патогенных бактерий, он более характерен для самих продуцентов, но гены, ответственные за такую модификацию, могут передаваться другим бактериям-конкурентам.
— Устойчивая бактерия, размножившаяся у одного пациента, может распространиться и заразить других?
— Да, такое возможно в повседневной жизни, но особую опасность это представляет в условиях больничных инфекций. Поэтому в медицинских учреждениях часто применяется ротация антибиотиков.
— Назовите пример бактерии-мутанта, с которой раньше легко справлялись, а теперь она стала проблемой.





