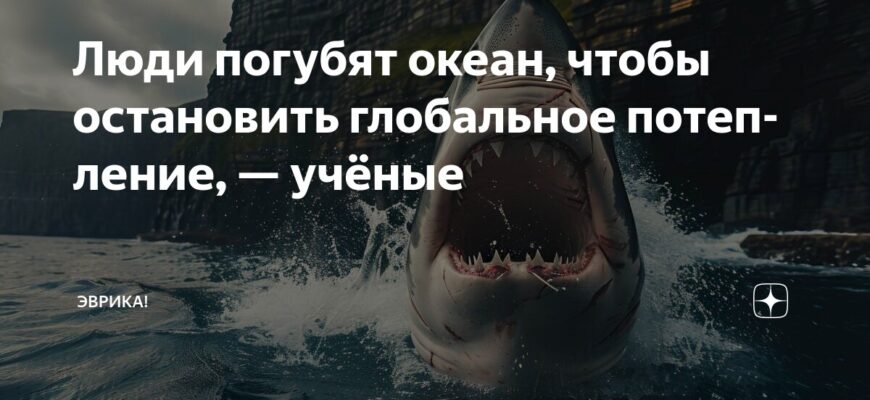- Государства вообще-то умеют договариваться, но сейчас дело идет к авралу
- Спасение озона
- Иное дело — климат!
- Минуло восемь с половиной лет…
- Изменение величины выбросов парниковых газов (в процентах) странами—крупнейшими эмитентами парниковых газов в период с 2015 по 2022 год и отдельно в течение 2022 года
Государства вообще-то умеют договариваться, но сейчас дело идет к авралу
Сейчас популярно нумеровать сезоны в сериалах. В 2015 году, перед принятием Парижского соглашения по климату, в издании «Ъ-Наука» была опубликована наша статья с заголовком «Глобальное потепление пока не остановить». Спустя девять лет мы снова обсуждаем изменения климата и усилия по борьбе с ними, и этот заголовок, к сожалению, остается актуальным.
XX век стал эпохой огромного научно-технического прогресса, который затронул все сферы жизни. Эти достижения, которыми мы гордимся, были необходимы для выживания стремительно растущего населения (от 1.66 млрд в 1900 г. до 8.12 млрд сегодня). Без них человечество столкнулось бы с острыми проблемами: продовольствием, здравоохранением, связью. Однако этот комфорт достигается ценой внедрения не всегда чистых и ресурсоемких технологий. Добыча и использование полезных ископаемых долгое время были бесконтрольными, нанося значительный ущерб природе. Этот ущерб, особенно для атмосферы, изначально был локальным и заботил местные власти (часто не в первую очередь), но постепенно стал глобальным, игнорируя государственные границы.
Спасение озона
Первый тревожный сигнал прозвучал полвека назад. В начале 1970-х вышло несколько работ, указывающих на потенциальную угрозу озоновому слою Земли со стороны человеческой деятельности. Самой известной стала статья будущих нобелевских лауреатов Марио Молины и Шервуда Роуланда. Они описали последствия массового применения хлорфторуглеродов (используемых в качестве хладагентов, распылителей и др.). Эти вещества, попадая в атмосферу, разрушаются под действием солнечного света, выделяя атомы хлора и брома, которые каталитически разрушают молекулы озона. Подтверждением угрозы стало обнаружение весенней «озоновой дыры» над Антарктидой десятью годами позже.
Диаграмма: Измеренное (красная линия) и предсказанное (черная линия, неопределенность показана серой заливкой) среднегодовое глобальное (сверху) и октябрьское антарктическое (снизу) общее содержание озона (ОСО) — суммарное количество молекул озона в атмосферном столбе с площадью основания 1 кв. см. Измеряется в единицах Добсона (1 е. Д. = 2,69×10¹⁶ молекул озона на 1 кв. см) в период 1960–2100 годов.
Важность озона, одного из компонентов атмосферы, объясняется его способностью поглощать губительное для всего живого жесткое солнечное ультрафиолетовое излучение (длины волн 200–315 нм). Угроза истончения озонового слоя не была мгновенной, так как хлорфторуглероды (фреоны) первого поколения десятилетиями сохраняются в атмосфере, распространяясь по всему миру и создавая дефицит озона не только над Антарктидой. Как участник тех событий, могу подтвердить, что эта тревожная ситуация способствовала уникальному международному сотрудничеству: быстро запустились программы мониторинга, расширились сети станций, активно проводился обмен данными и идеями. Международный «мозговой штурм» позволил быстро установить причины и механизмы образования «озоновой дыры» над Антарктидой, углубив наши знания об озоне и озоносфере. Логичным результатом стало принятие в 1987 году Монреальского протокола, регулирующего производство и использование озоноразрушающих веществ. Десятилетия спустя генсек ООН Кофи Аннан назвал его, возможно, единственным очень успешным международным соглашением. Основания для этого весомы: с начала XXI века наблюдается заметная тенденция к восстановлению озонового слоя.
По модельным прогнозам, ожидается, что среднемировой озоновый слой вернется к уровню 1980 года (до появления «дыры») во второй половине 2040-х, а антарктический — примерно к 2061 году. Эта разница связана с уникальными климатическими условиями Антарктиды, где весенние потери озона были намного масштабнее, чем где-либо. Для сравнения: в Арктике «озоновые дыры» (также весенние) возникают не каждый год, а примерно раз в десятилетие, и их параметры значительно меньше антарктических.
Диаграмма: Изменения современного климата: а) Аномалия температуры воздуха у поверхности Земли (°С) в 1880–2023 годах (среднегодовые значения и сглаженная кривая); б) Рост уровня Мирового океана (мм) по спутниковым данным в 1993–2024 годах (с погрешностью); в) Минимальная площадь арктического морского льда (млн кв. км) в сентябре 1980–2023 годов; г) Глобальные зарегистрированные стихийные бедствия по типам за период 1970–2024 годов (данные до апреля 2024 года).
Конечно, могут быть отдельные годы с ухудшением (как в Антарктиде весной 2020 года, когда «дыра» была одной из самых больших), но в целом тренд на восстановление озонового слоя становится все более явным. Косвенным подтверждением нормализации служит снижение интереса к озоновой теме у непрофильных СМИ, которые переключились на проблему изменения климата.
Надо отметить, что такое переключение внимания вполне логично. Жители России и других стран средних и высоких широт Северного полушария воспринимают проблемы с озоном в далекой Антарктиде довольно отстраненно, как «трудности пингвинов».
Иное дело — климат!
Изменения климата затрагивают каждого человека в той или иной степени. Хотя часто под ними понимают только глобальное потепление (рост среднегодовой температуры у поверхности Земли по сравнению с доиндустриальным уровнем), потепление — лишь одно из проявлений происходящих с климатом изменений.
Системы мониторинга, развитые в последние десятилетия, беспристрастно регистрируют не только повышение температуры приземного воздуха и уровня Мирового океана, но и сокращение площади арктического морского льда, а также рост числа стихийных бедствий. Последние вызваны в основном изменениями в гидрологическом цикле (наводнения, засухи) и усилением ветров (штормы, ураганы, смерчи). Все чаще фиксируются волны тепла — периоды аномально жаркой погоды продолжительностью от пяти дней и более в конкретном регионе.
Беспрецедентно высокие темпы этих изменений делают проблему климата одной из самых острых в XXI веке. Подавляющее большинство экспертов считают главной причиной антропогенный фактор — хозяйственную деятельность. Проблема не возникла внезапно: еще полвека назад выдающийся российский климатолог М. И. Будыко предсказал повышение глобальной температуры на 1°C и исчезновение ~50% многолетних льдов Арктики к 2019 году по сравнению с 1970 г. (этот прогноз почти точно оправдался). Однако осознание угрозы пришло гораздо позже: прошло более двух десятилетий, прежде чем в 1997 году появился Киотский протокол, предписывающий сокращение выбросов парниковых газов (СО₂, СН₄, N₂O и др.) — основных виновников усиления парникового эффекта. Парадоксально, но документ не вступил в силу сразу; требовалась ратификация странами, на долю которых приходилось 55% мировых выбросов. Ратификации США, ЕС и Японией было бы достаточно, но США отказались, отсрочив начало действия протокола до 2005 года, когда его ратифицировала Россия. Запланированный 15-летний первый этап (1997–2012) оказался вдвое короче. Еще один парадокс: протокол не обязывал Китай и Индию, чьи экономики бурно развивались с ростом потребности в энергии от ископаемого топлива. Неучастие двух крупнейших эмитентов, США и Китая, привело к отказу от пролонгации после 2012 года Японии, России и Канады, которые надеялись на новое, более эффективное соглашение. Также выяснилось, что даже полное выполнение обязательств всеми ратифицировавшими странами недостаточно для заявленных целей. По сути, Киотский протокол потерял актуальность, так как верность ему сохранили страны с долей лишь около 15% глобальных выбросов.
После нескольких лет неудачных попыток, в декабре 2015 года в Париже было наконец утверждено новое климатическое соглашение. Оно подтвердило ведущую роль роста концентрации парниковых газов в глобальном потеплении и поставило цель совместными усилиями удержать рост глобальной среднегодовой температуры у поверхности Земли в пределах 2°С, а лучше — 1.5°С относительно доиндустриального уровня. Средством достижения цели называлась замена ископаемого топлива на «зеленые» технологии (в основном солнечную и ветровую энергетику). Однако на этом общее согласие закончилось — договориться об едином механизме сокращения выбросов и контроля за ними не удалось. В качестве компромисса решили, что каждая страна сама, исходя из своих возможностей и интересов, определяет, как и в каких секторах она будет сокращать выбросы. Следует признать, достичь полного консенсуса было крайне сложно: известно, как непросто согласовать решения даже в двух-трехсторонних переговорах, а здесь число сторон приближалось к двумстам.
Минуло восемь с половиной лет…
Конечно, пока рано делать окончательные выводы, ограничимся промежуточными. Рассмотрим, как менялись приземные концентрации двух основных антропогенных парниковых газов — СО₂ и СН₄. Согласно современным представлениям, они ответственны примерно за 60% и 20% глобального потепления соответственно.
Как легко заметить, концентрации обоих газов в атмосфере продолжали расти, не снижая темпов. Это создает предпосылки для сохранения текущих тенденций изменения климата. Конечно, некорректно проводить здесь прямую связь, поскольку климатическая система Земли очень инерционна и реагирует на внешние воздействия (включая природоохранные меры) со значительной задержкой. Тем не менее отсутствие кардинальных изменений в «причине» (продолжающемся росте концентраций парниковых газов) не позволяет надеяться на благоприятные «следствия» (удержание роста температуры в заданных рамках) в ближайшем будущем.
Очевидно, рост концентраций СО₂ и СН₄ связан с объемами их текущих выбросов в атмосферу. На диаграмме показан вклад отдельных стран в мировые выбросы в 2022 году.
Диаграмма: Динамика среднемесячных приземных концентраций двух основных антропогенных парниковых газов: СО₂ (слева, млн⁻¹) и СН₄ (справа, млрд⁻¹). (1 млн⁻¹ = 1×10⁻⁶ молекул СО₂/молекул воздуха; 1 млрд⁻¹ = 1×10⁻⁹ молекул СН₄/молекул воздуха). Данные измерений.
В последние годы шестеркой крупнейших мировых источников выбросов парниковых газов были Китай, США, Индия, ЕС-27, Россия и Бразилия. В 2022 году на них приходилось 50.1% мирового населения, 61.2% мирового ВВП и 63.4% мирового потребления ископаемого топлива. С 2008 года лидерство по выбросам принадлежит Китаю, который обогнал США. Среди стран ЕС-27 наибольший вклад вносят Германия (21.9%), Франция (12.0%), Польша (11.2%), Италия (11.0%) и Испания (9.2%).
Диаграмма: Доля отдельных стран в общемировом выбросе парниковых газов (%) в 2022 году.
Однако для оценки эффективности предпринимаемых мер борьбы с антропогенным глобальным потеплением важно рассмотреть динамику ежегодных выбросов после принятия Парижского соглашения.
За семилетний период (после 2015 года) мировые выбросы парниковых газов в среднем росли примерно на 1% ежегодно. Сопоставляя данные в таблице, очевидно, что это результат экономической политики Китая, Индии и России. Однако, учитывая значительную разницу в долях этих стран в мировых выбросах, основным фактором этого роста за семь лет является Китай — его абсолютный прирост выбросов в четыре раза больше индийского и в 7.7 раза больше российского. Ситуация меняется при рассмотрении только 2022 года: индийский прирост по абсолютной величине вдвое превысил американский и в 3.6 раза — китайский. Тем не менее, даже «скромный» дополнительный объем выбросов в США полностью компенсировал совокупное сокращение в ЕС-27, России и Бразилии, что в итоге способствовало сохранению темпов мирового прироста на уровне около одного процента в год.
Изменение величины выбросов парниковых газов (в процентах) странами—крупнейшими эмитентами парниковых газов в период с 2015 по 2022 год и отдельно в течение 2022 года
| Страна | Китай | США | Индия | ЕС-27 | Россия | Бразилия | Все страны мира вместе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2015 | 16,4 | -4,3 | 16,3 | -8,5 | 12,4 | 0,2 | 7,3 |
| 2022–2021 | 0,3 | 1,6 | 5 | -0,8 | -1 | -2,4 | 1,4 |
По оценкам.
Как упоминалось, разные страны применяют разные подходы к декарбонизации. Например, Китай поэтапно закрывает угольные шахты (добыча угля — основной источник выбросов СО₂ и СН₄ в стране; объем добычи в Китае сопоставим с общим объемом добычи США, России и Австралии) и развивает ветроэнергетику (Китай — мировой лидер по производству ветровой энергии). ЕС-27 применяет комплексный подход для снижения выбросов в разных секторах; в 2022 году снижения не достигнуто только в транспорте и энергетике. В России, где около 80% выбросов приходится на энергетику, в последние годы наблюдается значительное, во многом связанное с политическими решениями, сокращение добычи природного газа (с 514.79 млрд кубометров в 2021 г. до 412.58 млрд в 2022 г. и 355.23 млрд в 2023 г.), что повлияло на указанное в таблице снижение эмиссии.
В недавней статье был проанализирован опыт 1.5 тыс. климатических мер, направленных на сокращение выбросов и реализованных в 41 стране с 1998 по 2022 год. Выявлено 63 успешных политических вмешательства с общим сокращением выбросов от 600 до 1800 Мт CO₂-эквивалента. Для сравнения: в 2022 году мировые выбросы СО₂ и СН₄ оценивались примерно в 38 510 Мт СО₂ и 11 285 Мт СН₄. Таким образом, общее сокращение за счет этих успешных мер составляет лишь 1.6–4.7% от современных мировых выбросов CO₂.
При общении с журналистами одним из частых вопросов является: «Что будет с климатом в ближайшие годы?»…